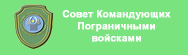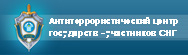СЕКРЕТАРИАТ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
04.12.2023
В Правоохранительной академии Республики Узбекистан 1 – 2 декабря 2023 года состоялась международная конференция по случаю годовщины ее основания на тему: «Юридическое образование и наука в правоохранительной сфере: современные тенденции и перспективы».
Конференция организована Правоохранительной академией Республики Узбекистан при поддержке ряда зарубежных партнеров, в частности, УНП ООН, Совета Европы и ОБСЕ.
В мероприятии приняло участие более 40 зарубежных экспертов в области науки и образования, а также руководителей и специалистов учреждений правоохранительной сферы из 20 стран и 10 международных организаций.
Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников содружества Независимых Государств Зимин В.П. в формате видеоконференции принял участие в работе сессии «Имплементация международных стандартов в сфере противодействия коррупции и легализации преступных доходов» и выступил с докладом по теме: «Международные антикриминальные стандарты: понятие, источники и обеспечение их соблюдения на национальном уровне».
Зимин В.П. посвятил свое выступление рассмотрению понятия «международные антикриминальные стандарты» (на примере России в области противодействия коррупции), выявлению их формальных источников и видов (тезисы его выступления прилагаются).При этом он подчеркнул, что отсутствует общепризнанное определение данного термина, что не способствует правильному и единообразному пониманию официальных документов и позиции авторов публикаций при их анализе и выработке предложений по совершенствованию правового регулирования и практики борьбы с коррупцией в России, по повышению эффективности ее участия в международном антикоррупционном сотрудничестве.
Он также отметил, что участие государства в разработке и принятии соответствующих международных антикоррупционных актов (документов) способствует более полному соблюдению (выполнению) этим государством положений таких актов, будь то международно-правовые акты или международные политически обязательные акты, а также учету международных норм рекомендательного характера в процессе совершенствовании как национального законодательства, так и практики его применения.
В.П. Зимин обратил внимание участников конференции на то, что реализация в России международных антикоррупционных стандартов направлена на:
1) повышение эффективности противодействия коррупции на национальном уровне;
2) улучшение инвестиционной привлекательности России в целом и ее регионов;
3) укрепление позиций страны в международном антикриминальном сотрудничестве и ее международного престижа в целом;
4) сближение (гармонизацию и унификацию) антикоррупционных законодательства и практики государств-членов международных организаций и объединений, в которых участвует Россия, особенно созданных на постсоветском пространстве (Союзное государство, СНГ, Евразийский экономический союз и Организация договора о коллективной безопасности), что способствует более активному участию этих государств в интеграционных процессах.
Кроме того, в рамках конференции состоялись тематические сессии: «Юридическое образование и наука в правоохранительной сфере: современные тенденции и перспективы», «Образование в области прав человека: академическое мастерство, технологии и инновации», «Современные подходы к обучению и подготовке следственных кадров: от теории к практике», «Вопросы профилактики и предотвращения правонарушений: обмен передовым опытом и перспективы сотрудничества».
По итогам международной научно-практической конференции планируется публикация сборника материалов.
Тезисы выступления В.П. Зимина прилагаются.
Тезисы выступления
Зимина В.П., Исполнительного секретаря Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств, государственного советника юстиции 3 класса, Заслуженного юриста Российской Федерации, почетного работника прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Республики Узбекистан, на тему:
«Международные антикриминальные стандарты: понятие, источники
и обеспечение их соблюдения на национальном уровне»
(Республика Узбекистан, Ташкент, 1 декабря 2023 г.)
Многие специалисты в области борьбы с преступностью, как российские, так и зарубежные, нередко оперируют заимствованными из англоязычной литературы терминами «международные стандарты», «стандарты ООН», «европейские стандарты», «стандарты Совета Европы» и «национальные стандарты» и т.п., в том числе применительно к различным аспектам противодействия преступности, активно заменяя ими устоявшиеся термины «международные нормы», «европейские нормы» и «национальные нормы».
При этом отсутствует единое понимание самого термина ««международный стандарт» в контексте противодействия преступности, что не может не вводить в заблуждение многих людей, в том числе тех, кто использует такие термины, включая законодателей. Рассмотрим эту проблему применительно к России и на примере борьбы с коррупцией.
Ученые и специалисты-практики в этой области все шире используют термины «международные антикоррупционные стандарты», «международно-правовые стандарты противодействия коррупции», антикоррупционные стандарты различных международных организаций (ООН, Совета Европы, СНГ и пр.).
При этом очевидно, что определение понятия «международные антикоррупционные стандарты» имеет как теоретическое, так и практическое значение. И, прежде всего, представляется необходимым уметь из огромного массива международных антикоррупционных норм вычленить обязательные к исполнению в данном государстве нормы (стандарты), с тем чтобы принять необходимые меры по обеспечению их реализации.
Как известно, коррупция в более или менее острой форме проявляется практически во всех государствах мира, превращаясь в серьезное препятствие на пути их социально-экономического, политического и культурного развития и существенно снижая уровень и качество жизни населения. Поскольку она приобрела транснациональный характер, то усилий, которые предпринимает каждое государство в одиночку, оказывается недостаточно, чтобы успешно противостоять ей. В связи с этим с середины 1990-х годов противодействие коррупции стало приобретать международное измерение, и к настоящему времени оно объединяет усилия практически всех членов международного сообщества, в том числе в рамках универсальных, трансрегиональных и региональных (субрегиональных) межгосударственных (межправительственных) организаций, а также гражданского общества в лице заинтересованных международных неправительственных организаций.
Эффективное противодействие коррупции во многих случаях может осуществляться только при рациональном сочетании внутригосударственных (национальных) и международных усилий.
Термин «международные антикоррупционные стандарты» используется не только в научной и учебной литературе, публицистике, но и в официальных актах, в том числе нормативно-правовых. Однако при этом отсутствует общепризнанное определение данного термина, что не способствует правильному и единообразному пониманию официальных документов и позиции авторов публикаций при их анализе и выработке предложений по совершенствованию правового регулирования и практики борьбы с коррупцией в России, по повышению эффективности ее участия в международном антикоррупционном сотрудничестве.
В науке необходимо опираться на понятийный аппарат, без которого затруднительна научная познавательная деятельность. Это относится и к определению понятия «международные антикоррупционные стандарты», в том числе применительно к Российской Федерации.
За прошедшее время в мире на международном уровне приняты более сотни актов (документов) самого различного характера, в которых содержатся тысячи нормативных положений по вопросам противодействия коррупции.
В связи с этим необходимо раскрыть понятие «международные антикоррупционные стандарты», определить их формальные источники и механизмы выполнения, в первую очередь через их инкорпорацию в отечественное уголовное законодательство.
Изучая этиологию ключевого для нашего исследования термина, отметим, что синонимом понятия «международный антикоррупционный стандарт», как и любого другого правового стандарта, с позиции доктринального толкования в узком смысле является понятие «норма». Это некий ориентир, образец для подражания, трафарет, который вправе использовать национальные законодатели при условии, что он будет выполнять ту же функцию, что и норма. В более широком значении – это принципы, нормы, решения, имеющие обязательный для исполнения характер.
В российском антикоррупционном законодательстве понятие «антикоррупционный стандарт» раскрывается в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О противодействии коррупции». В п. 5 ст. 7 этого закона в основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции включено «введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области».
Вызывает сомнение корректность данного определения, поскольку, по нашему мнению, вряд ли только установлением антикоррупционных стандартов обеспечивается предупреждение коррупции в соответствующей области общественных отношений.
Указанное определение антикоррупционного стандарта, по существу, сходно с определением, содержащимся в ст. 2 Модельного закона СНГ «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (2003 г.), согласно которой антикоррупционные стандарты — это единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы. Оно во многом производно и от ст. 8 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября2003 г., в которой стандарт рассматривается как эталон поведения «для правильного выполнения публичных функций».
Обращение к справочной литературе также приводит к выводу, что «стандарт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов. Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. Стандарт может быть разработан как на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ), так и на нормы, правила, требования в различных областях».
Международные антикоррупционные стандарты учитываются при формировании российских стратегии и национальных планов противодействия коррупции. Так, согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2021-2024 годы предусмотренные в нем мероприятия направлены, среди прочего, на «популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания».
К сожалению, в современной научной литературе России не приводится определение международных стандартов.
Например, А.А. Каширкина, среди прочего, упоминает также «антикоррупционные стандарты ГРЕКО». Как известно, ГРЕКО – это созданный в рамках Совета Европы механизм мониторинга за выполнением двух антикоррупционных конвенций, заключенных под эгидой этой региональной организации.
Как представляется, нельзя согласиться с тем, что органы международного антикоррупционного мониторинга (например, ГРЕКО и Рабочая группа по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР), принимая по итогам оценочных раундов рекомендации в отношении проверяемых государств, формируют международные антикоррупционные стандарты, т.е. юридически или политически обязательные международные нормы, причем не только для этих государств.
Кроме того, следует иметь в виду, что, как справедливо отмечали российские специалисты, зачастую толкование международных конвенций международными организациями не только значительно расширяет рамки договорных международно-правовых предписаний, но и вносит в них существенные элементы импровизации, не являющиеся прямым отражением базовых международно-правовых норм.
На наш взгляд, решению этой проблемы могло бы способствовать четкое определение того, какие положения считаются международными антикоррупционными стандартами, т.е. являются обязательными для государств-адресатов, а какие имеют рекомендательный характер и могут выполняться (полностью или частично) или не выполняться.
При рассмотрении международных антикоррупционных стандартов эксперты, в первую очередь, обращают внимание на международно-правовые стандарты, т.е. нормы, содержащиеся в источниках международного права.
К таким источникам относятся, прежде всего, соответствующие международные договоры.
Международные договоры о борьбе с отдельными преступлениями (их видами), в том числе антикоррупционные договоры, заключаются, как правило, под эгидой межгосударственных организаций и органов.
К числу основных международных договоров, прямо посвященных борьбе с коррупцией, в которых участвует Россия, относятся следующие три многосторонних договора:
1) заключенная в рамках ОЭСР Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 17 декабря 1997 г.;
2) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;
3) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.
Полагаем, что положения международных антикоррупционных договоров, в которых участвует Россия и которые связаны с криминализацией соответствующих деяний, следует отнести к основным источникам международных антикоррупционных стандартов.
Отметим также, что после выхода России 15 марта 2022 г. из Совета Европы наша страна прекратила свое участие и в ряде заключенных под эгидой этой организации международных договоров, включая Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января1999 г. Вместе с тем, уверены, что в ближайшем будущем Россия станет участницей Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, подписанного 14 октября 2022 г. в Астане (Казахстан).
В основных международных договорах, заключенных в целях борьбы с коррупцией, ведущим является обязательство государств-участников квалифицировать перечисленные в них деяния как преступные (т.е. криминализировать эти деяния в своем законодательстве, если это еще не сделано) и применять за их совершение надлежащие меры наказания сдерживающего характера.
Правовая система Российской Федерации (как совокупность нормативно-правовых предписаний, которыми должны руководствоваться субъекты в пределах ее юрисдикции, будь то физические или юридические лица), состоит из двух нормативных блоков: внутригосударственного (национального) и международного. При этом государство должно обеспечить их сосуществование и эффективное применение (в том числе закрепление механизмов разрешения возможных коллизий между нормами, относящимися к этим блокам) и взаимодействие.
Помимо криминализации, в указанной тройке основных международных договоров Российской Федерации более или менее детально регламентируются такие ключевые направления сотрудничества государств-участников в борьбе с перечисленными в документах деяниями, как выдача (экстрадиция), правовая помощь по уголовным делам, передача уголовного судопроизводства, арест и конфискация доходов от преступной деятельности и обеспечение возврата из-за рубежа полученных от коррупции средств, сотрудничество правоохранительных органов (полицейское сотрудничество), создание совместных следственных бригад, защита свидетелей и потерпевших. Поэтому к международным антикоррупционным актам, содержащим нормы-стандарты можно отнести и документы, регламентирующие вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного, административного (в частности, применительно к ответственности юридических лиц) и гражданского (например, в отношении гражданско-правовой конфискации, или конфискации inrem) судопроизводства, в первую очередь, соответствующие международные договоры.
Россия является участником десятков таких договоров (многосторонних и двусторонних).
Общепризнано, что одним из наиболее эффективных средств противодействия коррупции является борьба с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от коррупционных правонарушений. В связи с этим неотъемлемым элементом как международной, так и национальных систем борьбы с коррупцией следует рассматривать международные организации (органы) и международные акты (включая содержащие стандарты), рассматривающие эти вопросы.
Принимая во внимание содержание и круг государств, участвующих в перечисленных выше договорах антикоррупционного характера, в т.ч. почти абсолютное участие государств мира в Конвенции ООН против коррупции, можно сделать вывод, что данные международно-правовые акты составляют в совокупности весьма значительную (но не вполне достаточную) договорную основу участия Российской Федерации в межгосударственном сотрудничестве в противодействии коррупции.
В отношении договорных (конвенционных) обязательств государств действует принцип pactasuntservanda («договоры должны выполняться»), а их невыполнение может повлечь для государства-правонарушителя международно-правовую ответственность.
Однако, к сожалению, многие специалисты, в том числе уголовно-правового профиля, не учитывают, что, помимо международных договорных (конвенционных) обязательств, многие государств, в т.ч. Россия, обязаны также выполнять и международные политически обязательные антикоррупционные предписания. Такие предписания содержатся, например, в принятых с участием России документах следующих международных организаций (неформальных объединений, форумов): БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), «Группа двадцати», Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Невыполнение (нарушение) международной политически обязательной нормы влечет не международную юридическую (международно-правовую), а международную политическую ответственность. Хотя, к сожалению, должен отметить, что вопрос о международной политической ответственности, в т.ч. о соответствующих санкциях, разработан еще в меньшей степени, чем вопрос о международно-правовой ответственности.
Многие эксперты ошибочно относят к источникам международных антикоррупционных стандартов многочисленные документы (акты) международных органов (организаций) и конференций, имеющие рекомендательный характер. К сожалению, такие ошибки содержатся и в серьезных публикациях справочного и методического характера, в которых в число международно-правовых антикоррупционных актов включаются, например, имеющие рекомендательный характер резолюции органов ООН, ОЭСР, СНГ и Совета Европы.
К ним относятся, в частности, Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Пересмотренная Рекомендация Совета о борьбе с подкупом при заключении международных коммерческих сделок (принята Советом ОЭСР 23 мая 1997 г.), Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-членам № R (2000)10 от 11 мая 2000 г. «О кодексах поведения служащих органов публичной власти», Глобальные стандарты по борьбе с коррупцией в полицейских силах/службах (приняты 24 октября 2002 г. Генеральной ассамблеей Интерпола), Рекомендация Совета ОЭСР о Руководящих принципах разрешения конфликта интересов на публичной службе от 28 мая 2003 г.
Примером международного акта рекомендательного характера является также Модельный закон СНГ от 25.11.2008 «О противодействии коррупции». Отметим, что, несмотря на известные достоинства международных актов модельного антикоррупционного законодательства (разработка которых практикуется, например, в рамках ООН, СНГ, Организации американских государств, Содружества наций, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), они носят лишь рекомендательный характер, а потому не могут быть источником международных антикоррупционных стандартов.
Государства, в т.ч. Россия, не обязаны, но могут учитывать положения международных актов (документов) рекомендательного характера, а также международных договоров, участниками которых они не являются, и международных политически обязательных актов, принятых в рамках международных форумов (организаций), в которых они не участвуют.
Например, определенный интерес для России и других государств-участников СНГ могут представлять региональные договоры о борьбе с коррупцией, участниками которых они не являются (например, Протокол о коррупции должностных лиц, дополняющий Конвенцию о защите финансовых интересов Европейского союза от 26 июля 1995 г., Конвенция против коррупции, в том числе должностных лиц Европейских сообществ или государств-членов Европейского союза, от 26 мая 1997 г., Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией от 29 марта 1996 г., Протокол Сообщества развития Юга Африки о борьбе с коррупцией от 14 августа 2001 г., Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г., Протокол Экономического сообщества западноафриканских государств о борьбе с коррупцией от 21 декабря 2001 г., Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней от 11 июля 2003 г.).
Следует иметь в виду, что в договорах и других документах, которые мы относим к источникам международных антикоррупционным стандартов, могут содержаться как императивные положения (например, обязательство привлекать юридические лица к ответственности за коррупционные деяния), так и диспозитивные (в частности, закрепленное в статье 26 Конвенции ООН против коррупции право государства определять, к какому виду ответственности привлекать юридическое лицо: уголовной, административной и гражданско-правовой).
По нашему мнению, к международным антикоррупционным стандартам следует относить только нормы императивного характера, касающиеся борьбы с коррупцией и содержащиеся в источниках международного права и международных политических актах, обязательных для соответствующих субъектов международного права.
В качестве основного вывода полагаем возможным сформулировать следующее положение принципиального характера: применительно к России термином «международные антикоррупционные стандарты» охватываются:
1) юридически обязательные нормативные предписания императивного характера о борьбе с коррупцией, содержащиеся в международных договорах Российской Федерации и решениях международных организаций, в которых участвует Россия;
2) политически обязательные нормативные положения императивного характера о борьбе с коррупцией, содержащиеся в решениях, принятых с участием России, в частности, в рамках «Группы 20», «Группы восьми» (до выхода из нее России в 2014 году), БРИКС, ФАТФ, АТЭС и ОБСЕ.
Соответственно, применительно к конкретному государству международные антикоррупционные стандарты можно определить как нормы императивного характера, касающиеся борьбы с коррупцией, содержащиеся в источниках международного права и международных политических актах, обязательных для этого государства.
Только в отношении обязательных для конкретного государства международных норм (стандартов) можно говорить о необходимости их соблюдения (выполнения) этим государством, о мониторинге (международном и/или национальном) за их соблюдением (выполнением) и ответственности (международно-правовой или международной политической, в зависимости от случая) государства за невыполнение им таких норм (стандартов).
В международной регулятивной системе все стандарты являются нормами (т.е. содержат правила поведения), но не все нормы есть стандарты (в том, понимании, которое изложено выше). В частности, стандартами не являются международные нормы рекомендательного характера.
Обеспечение соблюдения (выполнения) государствами международных антикоррупционных стандартов (как международно-правовых, или конвенционных, так и политически обязательных) осуществляется, как правило, путем внесения соответствующих изменений в национальное правовое регулирование (на соответствующих уровнях государственного управления: федеральном, субъектов федерации и муниципальном) и/или, при необходимости, в практику соответствующих органов (организаций) заинтересованных государств.
Следует отметить, что участие государства в разработке и принятии соответствующих международных антикоррупционных актов (документов) способствует более полному соблюдению (выполнению) этим государством положений таких актов, будь то международно-правовые акты или международные политически обязательные акты, а также учету международных норм рекомендательного характера в процессе совершенствовании как национального законодательства, так и практики его применения.
Реализация в России международных антикоррупционных стандартов направлена на:
1) повышение эффективности противодействия коррупции на национальном уровне;
2) улучшение инвестиционной привлекательности России в целом и ее регионов;
3) укрепление позиций страны в международном антикриминальном сотрудничестве и ее международного престижа в целом;
4) сближение (гармонизацию и унификацию) антикоррупционных законодательства и практики государств-членов международных организаций и объединений, в которых участвует Россия, особенно созданных на постсоветском пространстве (Союзное государство, СНГ, Евразийский экономический союз и ОДКБ), что способствует более активному участию этих государств в интеграционных процессах.
На наш взгляд, предложенный в настоящей статье подход к определению «международных стандартов» как юридически или политически обязательных для соответствующего государства международных норм императивного характера можно было бы распространить и на другие сферы международного сотрудничества (и не только в области противодействия преступности; к примеру, в сфере правозащитной деятельности). В частности, это способствовало бы борьбе заинтересованных государств в защиту миропорядка, базирующегося на международном праве, а не на неких навязываемых Западом (в нарушение принципа государственного суверенитета) правилах, не основанных на согласии таких государств на их обязательность.[1]
____________________________
[1] См.: Лавров С. В. О праве, правах и правилах, 28.06.2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mid.ru/web/guest/nota-bene/-/asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/content/id/4801890. – Дата доступа: 30.06.2021; Совместное заявление министров иностранных дел государств – участников Содружества Независимых Государств об укреплении роли международного права, 22.03.2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mid.ru/ru/foreign_policy/position_word_order/1418026/. – Дата доступа: 25.05.2021.
Информационное бюро
Секретариата КСГП СНГ